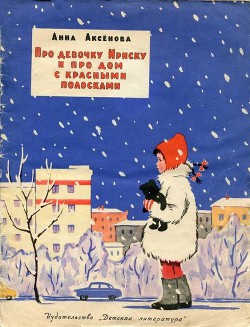диктора: «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!»
Ирена не замечала, что у нее льются слезы. Она думала о Жене, который тоже сейчас слушает где-то радио. Сколько планов, господи! Еще бы: не надо ничего бояться, не надо ждать каждый день смерти. Сынок, сынок, какой-то ты теперь? Скорее бы увидеть тебя, обнять тебя. Теперь ты будешь единственный мужчина в доме. Опора семьи. Глава семьи.
Думала она и о Викторе, искренне пожелав, чтобы он был жив в этот день. Кто знает, почему у них так странно получилось? Может быть, он и жалеет о своем поступке, раскаивается. Все-таки двадцать лет прожито. И неплохо прожито. Слушает сейчас радио и думает, простила бы она его, жизнь-то опять возвращается к старому, довоенному. Конечно, она простила бы: война все, проклятая, перемешала в кучу.
Думала она и о Никите Михайловиче, впервые не прогоняя мыслей о нем. Нашел ли он свою жену? Счастлив ли? Где он — она не знает, а он, наверное, представляет ее сейчас на этом месте, в спальне у репродуктора. Может быть, в эту минуту сидит со своей Татьяной, а сердце пощипывает боль от разлуки с Иреной.
Как бы там ни было, как бы ни жилось ей все эти годы — тоскливо и одиноко, хоть любовь Никиты Михайловича ненадолго и заполнила ее, — этой жизни пришел конец.
Уже в июне в городе стали появляться демобилизованные. Бывшие солдаты и дома ходили в гимнастерках, в солдатских штанах, в обмотках с ботинками, в кирзовых сапогах. Если кто и надевал свою довоенную одежду, то выглядела она как с чужого плеча: коротковата, узковата, как на подростке, которому все мало. На войне люди мужают. Пора было думать об одежде для Жени.
Он писал, что приедет в июле — августе, но не надолго, проездом, потому что поедет к Августе и сыну. Сына Августа тоже назвала Женей.
Ирена сама удивилась, что так спокойно восприняла это письмо. В конце концов, сын взрослый человек, мужчина. Что толку отговаривать его от Августы. Любит ли он ее, или ему только кажется, что любит, — пусть. Ему виднее, что ему надо. Чтоб потом не говорил, что мать лишила его счастья. И она сама не настолько еще стара, чтобы жить его жизнью… И Августа, видно, не такой уж плохой человек, если за все это время так и не рассказала Жене, как Ирена приняла ее, вернее, как выгнала.
Часто бывает, что из таких женщин, как Августа, — повидавших кое-что до замужества, — получаются неплохие жены и матери. Куда хуже, если женщина захочет повидать кое-что потом, уже будучи замужем…
Хорошо, что Августа из простых: значит, не погнушается никакой работой. А им надо будет теперь заняться садом, огородом, хозяйством. Времена нелегкие. Карточки… Придется завести кур, поросенка — словом, как было при матери и отчиме. Ирена сама этого не сумеет, не справится, но подсказать молодым, что и как, — это она может.
Себе Ирена возьмет спальню. Молодым — зал. Кухню придется оборудовать под столовую. (Кстати, надо бы купить еще пару ведер, одно уже течет.) Сын еще не приехал, а уже пришли заботы. Но заботы эти даже приятны. Столько лет их не хватало — простых домашних: куда что поставить, кого куда положить спать, что готовить на обед…
В конце июля Ирена должна была ехать в командировку по району, собрать на местах сведения о семьях погибших участников войны. Ирена обрадовалась командировке: надоело сидеть целые дни в помещении, когда стоит такая отличная погода, да и тяжело жить затянувшимся ожиданием сына. В поездках время проходит куда быстрее. Кроме того, она всерьез подумывала о перемене работы. Хватит ей тратить свои силы на Григория Ивановича, этого дуболома. Отношения у них, к счастью, нормальные, после того случая он не обращает на нее никакого внимания, что ее лично вполне устраивает. Но до пенсии еще далеко… Благодаря этой командировке можно начать кое-что себе подыскивать новое.
Она сидела у окна, штопала свитер, стараясь делать штопку незаметнее. Свитер обязательно надо было с собою взять: мало ли что, командировка могла и затянуться. И тут увидела в окне Вассу. Сын Вассы школьником дружил с Женей. Это был способный мальчик, умел разбирать и собирать приемники, чинил у всех соседей электрические пробки, электроплитки и электроутюги. Как только он ушел на фронт, так связь с ним и прекратилась. Ни одной весточки! Васса и на почту-то пошла работать, чтобы, не дай бог, не потерялось здесь его письмо. Но писем не было. На ее многократные запросы пришел наконец ответ, что сын ее пропал без вести. Васса ждала: без вести, значит, не обязательно погиб, ведь и в партизанах кто-то да есть, и в плен попадают.
Ирена зазвала Вассу в дом, включила стоящий на полу на подставке электрический чайник.
— Хочу просить вас, Васса, будут мне письма — не бросайте в ящик, подержите у себя на всякий случай. И цветы — сможете поливать?
— Мне это без труда, пожалуйста, — сказала Васса.
— Так и нет ничего? — спросила Ирена, и было понятно, о чем она.
— Нет. Да и не будет уже. Я-то все ждала, надеялась, а его косточки давно, наверное, в земле гнили. Панихидку лучше надо было отслужить, съездить в Зуевское.
— Всякое же бывает, — снисходительно, как ребенку, сказала Ирена. — Помните, в прошлом году на улице Седова похоронка пришла, ну тем, у которых вишни такие, на улицу свесились? Говорят, письмо получили, где-то в горах он был, в Болгарии, что ли.
— Бывает, — сказала Васса. — Чего только не бывает. На Басманной старуха одна живет. Верите или нет — замуж вышла. Самой уж шестьдесят, не меньше, а ему, поди, и пятидесяти нет, только что с фронта. Вроде бы старая любовь у них. Вроде он когда-то у ее мужа батраком был. Дождался своего счастья. Смех один.
Она положила на край стола газету, письмо.
— Пойду я.
— А может, выпьете чаю? Сейчас вскипит, — предложила Ирена.
— В другой раз, как вернетесь. Может, новости какие будут.
Ирена поняла, что Васса все-таки на что-то надеется. Бедняга.
Васса ушла, а Ирена взяла со стола письмо и, надорвав конверт — последнее время письма стали ходить в конвертах, узких, твердых, видно, что трофейных, — удивилась, что письмо такое короткое. «Неужели едет?» — екнуло сердце.
«Дорогая мама! Сегодня узнал, что раньше осени нечего и ждать демобилизации, так что прибытие мое задерживается. Я про…» Письмо на этом обрывалось. Но был второй листок. И другая рука,
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)